Минобразование вынесло на обсуждение проект, который предлагает ряд ограничений и запретов, притом игнорируя право родителей на выбор. Даже если ваш ребёнок обожает своего педагога, а успехи очевидны — чиновников это не волнует. В центре — бумажки. А мнение семьи, как и результат, — на втором плане.
Обсуждение продолжается с 28 марта по 10 апреля 2025 г. У граждан ещё есть шанс сказать своё слово. Но будет ли услышан голос общества — вопрос открытый.
Минобразованию что-то не даёт покоя. Оно решило влезть со своими бюрократическими и зарегулированными правилами в гражданские отношения, которые не финансируются из бюджета.
Многие люди, которые годами передают знания и помогают школьникам по-настоящему понимать предметы и получать практические навыки, могут оказаться вне закона, или их деятельность будет настолько ограничена, что больше времени будет уходить на формализм, а не на обучение учеников.
К примеру, озабоченность, чтобы репетиторы не выходили за рамки сформированных Минобразованием программ, вызывает недоумение. Люди уже пишут:
«А вам какая разница, господа чиновники, если кто-то будет учить по другой методике? Если не умеете научить в школе, то не мешайте! Если способ и методика преподавания репетитора в разы лучше и эффективнее той, что утвердили в Минобразовании, то это чиновникам от образования нужно идти к ним учиться, а не делать в своих документах на двух страничках по 10 ошибок».
Есть такое подозрение, что эти общеобразовательные программы как раз и направлены на программирование некоего усреднённого и покорного работника, который не должен обладать индивидуальным мышлением, личным мнением. И неважно, что фактически это тормозит развитие общества. Умными сложнее управлять.
Кстати, люди уже на форуме, где обсуждается проект, подсказывают: поправить ошибки, которые нашли в этом документе и обосновании проекта. И действительно, только в первых двух страницах проекта можно насчитать не менее 12 ошибок. Вот лишь некоторые из них:
- «документами обучении» вместо правильного «документами об обучении»;
- «удостоверится» вместо «удостовериться»;
- «ознакамливают» — глагол, которого не существует в русском языке. Вместо него должно быть «ознакомляют»;
- «учителялогопеда» — слепленное слово без пробела и дефиса, вместо «учителя-логопеда»;
- тавтология: «перечня видов деятельности» в контексте, где достаточно сказать «видов деятельности».
Ошибки не просто стилистические — есть и элементарные грамматические. Мягко скажем, они подрывают доверие к компетентности ведомства, которое берётся регулировать столь тонкую сферу, как индивидуальное обучение.
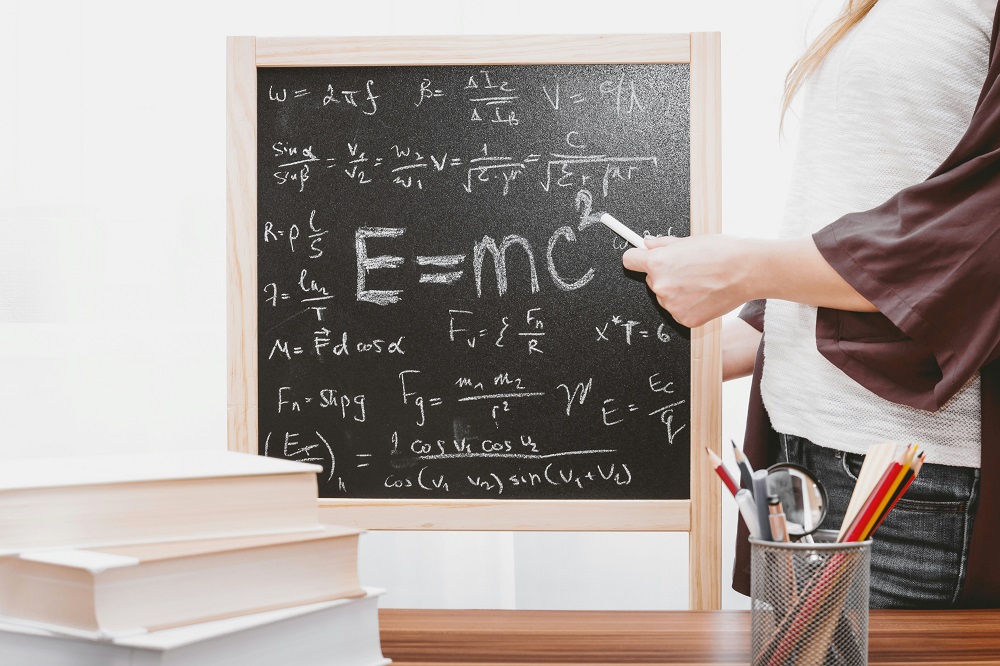
Что стало поводом для очередного «бумаготворчества»?
Формально – якобы отсутствие нормативного регулирования. В пояснительной записке говорится о рисках: трансляция деструктивной информации, обучение без должной квалификации, угроза традиционным ценностям, отсутствие патриотического воспитания.
Но давайте будем откровенны. Этот законопроект – не про защиту детей и не про повышение качества образования и тех навыков, которые получат ученики. Это реакция на то, что слишком много людей начали зарабатывать вне системы, без контроля и без регистрации. И теперь государство решило: хватит свободы. Надо подвести всех под один стандарт – с бумажками, с проверками, с допуском.
Суть – ограничить самозанятых, отфильтровать всех, кто не вписывается в стандартный образовательный «коридор». Превратить репетиторство, индивидуальные курсы и творческое обучение в территорию, где можно зарабатывать только с разрешения чиновников.
И всё это – под соусом патриотизма и ценностей. Но никакие высокие слова не скрывают сути: проект направлен на сужение пространства для свободы.
В проекте нет ни слова о том, что эти изменения способствуют освоению профессии, развитию педагогических компетенций или расширению образовательных возможностей. Зато есть чёткие намёки на отбор: без корки — нельзя.

Кто должен выбирать учителя?
Возникает логичный вопрос: зачем Министерству образования влезать в сферу индивидуального обучения, особенно если речь идёт о взрослых людях или согласии родителей в случае с детьми? Разве не родитель должен решать, подходит ли его ребёнку конкретный преподаватель?
Иногда самоучка способен передать знания так, как не сможет ни один выпускник педагогического вуза. Есть такие мастера, рядом с которыми обладатели трёх дипломов выглядят беспомощно.
И это не преувеличение – потому что знание и способность научить не всегда прописаны в бумажках. Государство же вместо поддержки хочет ввести новую стену.
А если учитель не даёт результата – он не заработает. Всё просто: ученик уйдёт, родители не порекомендуют. Это рынок. Здесь всё решает доверие и результат, а не количество печатей и контролёров.
Требовать какие-то документы от законных представителей, чтобы подтвердить, что ребёнок действительно обучается в школе или вузе, – вообще абсурд. Это вмешательство в личное пространство и попытка государственного контроля там, где должно работать исключительно личное доверие между семьёй и преподавателем. Разве не родитель должен решать, подходит ли его ребёнку конкретный преподаватель?
Так зачем нужно это постановление?
Давайте рассмотрим, как сам проект обосновывает своё появление. В нём говорится, что отсутствие нормативного регулирования может привести к негативным последствиям, включая:
- ненадлежащее обеспечение безопасности услуг;
- отсутствие у самозанятых требуемого уровня образования;
- трансляцию деструктивной информации;
- обучение, противоречащее «традиционным ценностям белорусского народа»;
- нарушение законодательства о персональных данных и морали;
- угрозу социальной безопасности.
На бумаге звучит внушительно. Но в реальности — всё это лишь риторическая ширма, за которой скрывается страх государства перед тем, что оно не контролирует.
Во-первых, вопрос безопасности — надуманный. Обучение музыке, рисованию, танцам или работе за компьютером редко сопряжено с рисками, требующими срочного государственного надзора.
Во-вторых, тезис об отсутствии образования — логическая ошибка. Если человек умеет учить, и это подтверждается спросом на его услуги, почему наличие диплома должно быть определяющим? Многие известные репетиторы и наставники не имеют профильного образования — и это не делает их менее эффективными.
Третье – «деструктивная информация» и «традиционные ценности». Эти понятия не определены. Кто будет решать, какие знания деструктивны, а какие — патриотичны? Это пространство для произвола.
Формулировки о социальной безопасности звучат как из спецслужбовской инструкции. Фактически проект подводит частное преподавание под надзор как потенциальную угрозу. А значит, не доверяет не только педагогам, но и родителям, которые выбирают этих педагогов.
Здесь уместно повторить: свобода обучения — это не угроза, а гарантия того, что человек может развиваться так, как ему ближе. Государство должно помогать и защищать, а не подменять выбор граждан.
Пункт о патриотизме и «ценностях»
Особое недоумение вызывает включение в проект постановления риторики из сферы национальной безопасности. Цитата из документа:
«К стратегическим национальным интересам Республики Беларусь относится патриотическое воспитание граждан, благополучие граждан, создание комфортных условий для жизнедеятельности и развития личностного потенциала».
Связывать обучение игре на гитаре или рисованию с государственной безопасностью — звучит почти сатирически. Зачем в документ, посвящённый частному обучению, вставлять такие декларации?

Всё это больше напоминает попытку идеологического контроля. Очевидно, что задача проекта — вовсе не только безопасность или качество. Это стремление к централизованному контролю над процессом, который по своей природе должен быть свободным.
Под видом защиты моральных ценностей государство хочет установить надзор за тем, кто и чему учит. И в этом контексте особенно уместны несколько цитат депутата Льва Шлосберга из соседней страны:
«Патриотизм — это не приказ, а выбор. Он не может быть навязан законом и уж тем более – принудительным обучением».
«Когда государство берётся воспитывать патриотизм как идеологию — это путь к диктатуре. Патриотизм должен быть внутренним убеждением, а не государственной кампанией».
«Патриотизм – это любовь к Родине, это личное чувство, личное переживание человека. Родина – это не государство и не власть».
«Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей».
Министерство образования пытается регламентировать частную инициативу, выдав это за заботу о безопасности и ценностях. На деле же, перед нами типичный пример бюрократического подхода: не управляем – запретим. И при этом авторы проекта постановления даже не могут без ошибок оформить собственный законопроект.
Читайте так же:
Только индивидуально, только взрослым: как хотят изменить частное обучение



